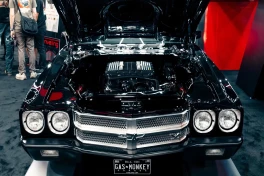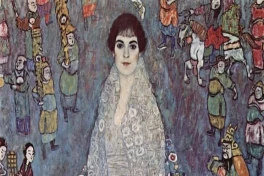Уитакер: Cанкции США против России ожидают “зелёного света“

"Форум в Баку - отправная точка в развитии сотрудничества мозговых центров Азербайджана и США" - ИЛЬГАР ВЕЛИЗАДЕ

Самолёт, летевший в Бангкок, совершил вынужденную посадку в Баку

Турция намерена довести товарооборот с Украиной до 10 миллиардов долларов
В мире
- Главная
- В мире
Порог нестабильности: сможет ли Европа удержаться от большой войны - АНАЛИТИКА

Европейское информационное пространство уже несколько месяцев живет в режиме тревожного обратного отсчета: министры обороны, генералы и разведчики вслух называют сроки возможного прямого столкновения с Россией — от 2027 до 2030 года. На этом фоне звучат предупреждения Бориса Писториуса о том, что прошедшее лето могло стать «последним мирным» для Европы, заявления французского генерала Фабьена Мандона о необходимости готовности к войне через три-четыре года, а также оценки польского военного командования, расценивающего серию диверсий и кибератак как «предвоенную фазу».
К этой картине добавляются подрывы инфраструктуры в Польше, атака на турецкий газовый танкер у берегов Румынии, обсуждения уязвимости Сувалкского коридора и регулярные напоминания о том, что государства Балтии остаются наиболее вероятной целью ограниченной операции Кремля.
Параллельно НАТО признает: на переброску сил с запада Европы на восточный фланг сегодня требуется до 45 дней, и Брюссель в цейтноте пытается сократить этот срок до трех-пяти суток, перестраивая логистику, проверяя мосты и железные дороги, придумывая «военный Шенген» и увеличивая оборонные бюджеты.
Одновременно Россия демонстрирует новые образцы вооружений стратегического класса, такие как крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой или ракета средней дальности «Орешник». И на словах уверяет, что не собирается нападать на НАТО, обвиняя Запад в «агрессивной риторике».
В самих европейских странах на этом фоне идет менее публичный, но принципиальный спор: насколько реалистичен сценарий прямого российского вторжения и что должно случиться, чтобы он стал не политической страшилкой, а реальной перспективой.
Вопрос упирается в три фактора: готовность США не только политически, но и технически поддерживать крупную войну в Европе; способность европейских обществ принять восстановление призыва и масштабную мобилизацию; и, наконец, сохранение страха перед российским ядерным арсеналом или, напротив, его эрозия.
Пока же Европа одновременно строит планы ускоренной переброски войск, разворачивает программы дальнобойного высокоточного удара и пытается понять, где заканчивается необходимое сдерживание и начинается самоисполняющееся пророчество о большой войне на континенте.
Окно опасности для Европы снова открыто
Формально Москва продолжает уверять, что не планирует нападать на НАТО, но имперские амбиции Кремля не ослабевают, а риторика становится жестче на фоне войны против Украины и конфронтации с Западом. Несколько независимых военных аналитиков уже открыто говорят о сценарии, при котором Россия может попытаться захватить территорию в странах Балтии, причем уже в ближайший год. Не ради оккупации, а чтобы усилить свои позиции на переговорах с США.
Логичной целью в таком сценарии называют Сувалкский коридор — узкую полоску между Беларусью и Калининградом, единственный сухопутный маршрут, соединяющий Балтию с остальной Европой. Этот участок границы давно называют ахиллесовой пятой НАТО: здесь сегодня дислоцировано лишь около 10 тысяч военнослужащих альянса, и эксперты предупреждают, что такой контингент не выдержит полномасштабного удара, а при формате «спецоперации» базы можно просто блокировать.
В качестве информационного прикрытия Москва могла бы вновь использовать риторику «защиты русскоязычных» — в Латвии, Литве и Эстонии проживает более 850 тысяч русских, в основном в приграничных районах.
В то же время военные подчеркивают, что риск — не тождественен неизбежности. Балтийское море после вступления Швеции и Финляндии в НАТО фактически превратилось в «озеро альянса», и любая попытка крупной операции против Балтии потребовала бы прорыва через Финский залив и вероятного захвата шведского острова Готланд, то есть резкого и неконтролируемого обострения с несколькими членами НАТО сразу.
Однако граница допустимого уже размыта: атака на танкер с СПГ у берегов Румынии, вызвавшая эвакуацию жителей приграничных сел, стала первым эпизодом, когда огонь войны вплотную подошел к территории НАТО, а западные политики открыто говорят, что «Россия атакует альянс».
На этом фоне испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник» и мобильной ракеты средней дальности «Орешник», способных поражать цели в любой точке Европы, усиливают ощущение, что Кремль не только не сворачивает свои имперские планы, но и закрепляет их военной инфраструктурой. Поэтому вопрос сегодня звучит не столько «возможна ли война с Россией», сколько «насколько близко мир подошел к черте, где ошибка, случайность или провокация могут превратить локальный эпизод в общеевропейский конфликт».
ВОЙНА ЛУЧШЕ РАЗГОВОРОВ?..
Военная гонка, охватившая мир после начала войны в Украине, стала сейчас не просто следствием страхов, но и логическим продолжением тектонического сдвига в глобальной безопасности. По данным SIPRI, оборонные бюджеты крупнейших держав растут темпами, которых не было со времен поздней холодной войны: Китай нарастил военные расходы еще на 7%, Россия — на рекордные 38%.
Европейские государства, убедившиеся в собственной уязвимости и опасаясь, что Соединенные Штаты могут однажды не прийти на помощь, согласовали новый ориентир — довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Вашингтон приветствует этот поворот, а Трамп, вернувшийся в кресло президента, играет роль «строгого отца», требующего, чтобы союзники наконец платили «справедливую долю».
…В конце 1950-х годов западные лидеры, пережившие ужасы мировой войны и первые кризисы ядерной эпохи, были почти единодушны в одном простом выводе: говорить дешевле, чем воевать, и несоизмеримо гуманнее. Премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, тяжело раненный на полях Первой мировой, в 1958 году сформулировал это как политический принцип: «разговоры лучше войны». Джон Кеннеди, прошедший через боевые ранения в ВМС США и затем оказавшийся во главе США в разгар Карибского кризиса, строил политику на том же понимании: дипломатические каналы и личные контакты лидеров — не дань вежливости, а последний предохранитель перед катастрофой.
Сегодня, как справедливо замечает бывший британский министр Эндрю Митчелл, эта поколенческая мудрость стремительно выветривается именно тогда, когда мир снова входит в эпоху большой конфронтации. Теория о том, что определяющие эпоху войны повторяются примерно раз в 80–85 лет, выглядит тревожно актуальной: живых свидетелей мировых войн почти не осталось, а вместе с ними исчезает и инстинктивное убеждение, что до подобной авантюры нельзя доводить ни при каких обстоятельствах.
Эрозия дипломатического инстинкта сегодня видна не только в агрессивной риторике, но и в распределении ресурсов. Военные бюджеты растут рекордными темпами: в 2024 году мировые военные расходы подпрыгнули почти на десять процентов и достигли уровня, которого Стокгольмский институт мира никогда ранее не фиксировал.
Параллельно богатые государства режут внешнюю помощь и сворачивают сети мягкой силы: по данным ОЭСР, официальная помощь развитию сократилась примерно на 9% и, с высокой долей вероятности, будет урезана еще на десяток процентов и более, причем впервые за почти тридцать лет Франция, Германия, Великобритания и США одновременно под нож кладут свои программы помощи два года подряд.
Дипломатические службы тоже худеют: под сокращения попадает Госдепартамент США при Дональде Трампе, о дефиците кадров предупреждают в Лондоне, Гааге, Брюсселе. Освободившееся пространство в Африке, Азии и на Ближнем Востоке готовы занимать другие игроки — от России и Китая до Турции, которые активно наращивают свое присутствие там, где западное влияние ослабевает.
В результате мир стремительно превращается в более жесткое и опасное место, где правительства инвестируют в армии и дальнобойные ракеты, одновременно экономя на переговорах, посредничестве и предотвращении конфликтов. Если относиться к геополитике как к рынку, картина проста: все больше лидеров продают мир и покупают войну.
Но европейское перевооружение началось не вчера: еще до победы Трампа на выборах военные бюджеты стран континента выросли на 17% за год и достигли 693 млрд долларов. С 2015 года наращивание составляет уже 83%.
Урсула фон дер Ляйен сформулировала новую доктрину коротко и жестко: «мир через силу». Ее критики уверяют, что гонка вооружений привела мировые державы к катастрофам XX века, однако профессор стратегической политики из Королевского колледжа Грег Кеннеди напоминает: «Убивают не оружия. Убивают правительства».
Военный потенциал сам по себе не делает войну неизбежной, но создает полосу безопасности, если его сопровождают дипломатия и каналы влияния. Проблема в том, что именно эти инструменты сегодня стремительно сокращены.
Серьезные политики в Европе, Великобритании и США не спорят о необходимости укрепления обороны, они спорят лишь о том, как ее финансировать в условиях ограниченных бюджетов.
И здесь снова слышен голос Вашингтона: в первые же недели второго срока Трамп заморозил миллиарды долларов внешней помощи и объявил о 90-процентном сокращении контрактов USAID, фактически подорвав работу гуманитарных структур в беднейших регионах мира. Эта «экономия» подается как борьба с идеологией, но по эффекту она ослабляет мягкую силу Запада и оставляет вакуум, который готовы заполнить силы, недружественные Европе и США. Именно в этот вакуум — дипломатический, гуманитарный и финансовый — сегодня, по предупреждениям аналитиков, входят Россия и Китай, расширяя влияние там, где Запад сам отступил.
ЕВРОПА УСИЛИВАЕТСЯ, ДИПЛОМАТИЯ ОСЛАБЕВАЕТ
Стремясь предотвратить резкий разрыв между США и Украиной, премьер-министр Великобритании Киир Стармер пытался показать, что Лондон серьезно относится к требованиям Трампа о перераспределении оборонного бремени. Перед визитом в Вашингтон он объявил о намерении увеличить военные расходы - частично за счет нового сокращения британского бюджета внешней помощи с 0,5% до 0,3% валового национального дохода. Для лидера центра-левого спектра это было болезненным, почти символическим отказом от традиционной политики лейбористов времен Блэра и Брауна, которые считали глобальную помощь моральной обязанностью.
Вашингтон встречал этот шаг аплодисментами, но дома Стармер получил политический удар: его министр международной помощи Аннелиз Доддс ушла в отставку, обвинив премьер-министра в том, что он «лишает отчаявшихся людей еды и лекарств» и разрушает репутацию Британии как гуманитарной державы.
Аналогичные процессы сегодня идут по всей Европе. Швеция в рамках «исторического» оборонного плана увеличивает военные расходы на 18%, но сокращает бюджет международного сотрудничества почти на полмиллиарда евро. Франция готовилась урезать программу помощи развитию на треть, Финляндия режет развитие, но сохраняет оборону. Даже Германия - традиционный оплот гуманитарной политики — рассматривает британский пример как обоснование собственных сокращений. Лишь Дания и Ирландия пытаются удержать прежний уровень международной помощи, но это слишком малые экономики, чтобы сохранить европейскую «мягкую силу» на прежнем уровне.
Отказ от помощи — лишь одна сторона большого разворота. Вторая — стремительное обескровливание дипломатических аппаратов. И здесь пример Трампа наиболее показательен: Госдепартамент США уволил более 1 300 сотрудников, десятки посольств остаются без руководителей, ключевые должности пустуют месяцами. В условиях кадрового провала президент отправляет вести чувствительные переговоры не профессионалов, а личных знакомых, как юриста и девелопера Стива Уиткоффа. В Брюсселе открыто сомневаются, способен ли такой посредник хотя бы корректно передать сообщение — не говоря о том, чтобы понимать политические нюансы войны.
Даже флагманское внешнеполитическое ведомство ЕС — Европейская служба внешних связей под руководством Каи Каллас — вынуждено сокращать свои зарубежные представительства. По данным POLITICO, закрываются десять делегаций, работу потеряют до 150 сотрудников — шаг, который еще несколько лет назад считался бы немыслимым для структуры, призванной укреплять глобальное влияние Европы.
«Европейская дипломатия отходит на второй план перед такими приоритетами, как контроль границ и оборона», — признал один из чиновников ЕС.
Формально в Брюсселе уверяют, что «дипломатию не сокращают» — просто ресурсы уходят на иные направления. Но неофициально европейские дипломаты говорят гораздо откровеннее: тенденция тревожит, а будущее многолетней системы международных связей становится всё менее определённым. «Нам всем стоит об этом беспокоиться», — признался один представитель внешнеполитической службы ЕС.
Бывший министр британского кабинета Эндрю Митчелл предупреждает, что ускоряющийся разворот от помощи и дипломатии к вооружению может обернуться катастрофой. По его словам, мир всё быстрее возвращается к тревожным паттернам начала XX века: всплеску узкого национализма, разрушению механизмов диалога, отказу от коллективной ответственности. Сокращение внешней помощи ради финансирования обороны он называет «ужасной ошибкой», напоминая, что мягкая сила часто эффективнее и неизмеримо дешевле жёсткой. «Развитие — это другая сторона медали обороны, — говорит Митчелл. — Оно помогает предотвращать войны, завершать конфликты и восстанавливать страны».
С ним согласны многие западные послы и аналитики: назначение дипломатии и программ развития — не в филантропии, а в создании прочных альянсов, к которым можно обратиться в час опасности.
«Любой солдат скажет вам, что реагирование на кризисы — это не только военные ответы, — подчеркивает бывший посол Великобритании в США Ким Даррок. — Это интегрированная стратегия, где дипломатия и оборона работают вместе».
Но сегодня многолетняя система помощи «трещит» под давлением политических атак и изъятия средств. Европейский комиссар по гуманитарной помощи Хаджа Лабиб предупреждает: если эта структура рухнет, мир столкнётся с новой волной нестабильности и массовой миграции. «Если мы не помогаем людям там, где они живут, они будут перемещаться, чтобы выжить», — говорит она. — «Отчаявшиеся люди более склонны к насилию — это закономерность, которую политики игнорируют на свой страх и риск».
Уменьшение внешнего присутствия Запада несет и долгосрочные политические издержки. Когда страна закрывает посольство или прекращает помощь нуждающемуся партнёру, память об этом остаётся надолго.
«Страны помнят, кто остался, а кто ушёл», — напоминает эксперт ОЭСР Сиприен Фабр. И именно в этот вакуум входят соперники: Турция увеличила число посольств в Африке с 12 до 44 за двадцать лет, Китай и Россия также масштабируют свое влияние.
«Глобальный милитаристский нарратив видит силу только в ракетах и больших красных кнопках, — говорит Фабр. — а все, что связано с мягкой силой, ошибочно считают слабостью».
Так Европа, укрепляя оборону, одновременно сокращает инструменты, которые десятилетиями помогали сдерживать конфликты без выстрелов — и тем самым делает мир менее устойчивым именно в тот момент, когда это устойчивость критически нужна.
На этом фоне растущую вероятность конфликта невозможно игнорировать. Имперские амбиции Кремля не ослабевают — напротив, заявления Москвы становятся более жесткими, а действия все агрессивнее. Военные аналитики предполагают, что Россия может попытаться захватить часть территории в Балтии уже в ближайший год, чтобы усилить свои позиции перед переговорами с США.
Парадокс момента в том, что Европа пытается предотвратить войну исключительно силой, в то время как ее дипломатический инструментарий ослаблен до предела. Это создает опасный вакуум — и чем он шире, тем более вероятным становится, что именно сила, а не переговоры, определит дальнейшую архитектуру европейской безопасности.

Уитакер: Cанкции США против России ожидают “зелёного света“

Турция намерена довести товарооборот с Украиной до 10 миллиардов долларов

Впервые в дикой природе волк использовал рыболовную сеть для охоты

Верховная Рада приостановила работу на неопределенный срок

Нетаньяху и высшее руководство Израиля посетили Сирию
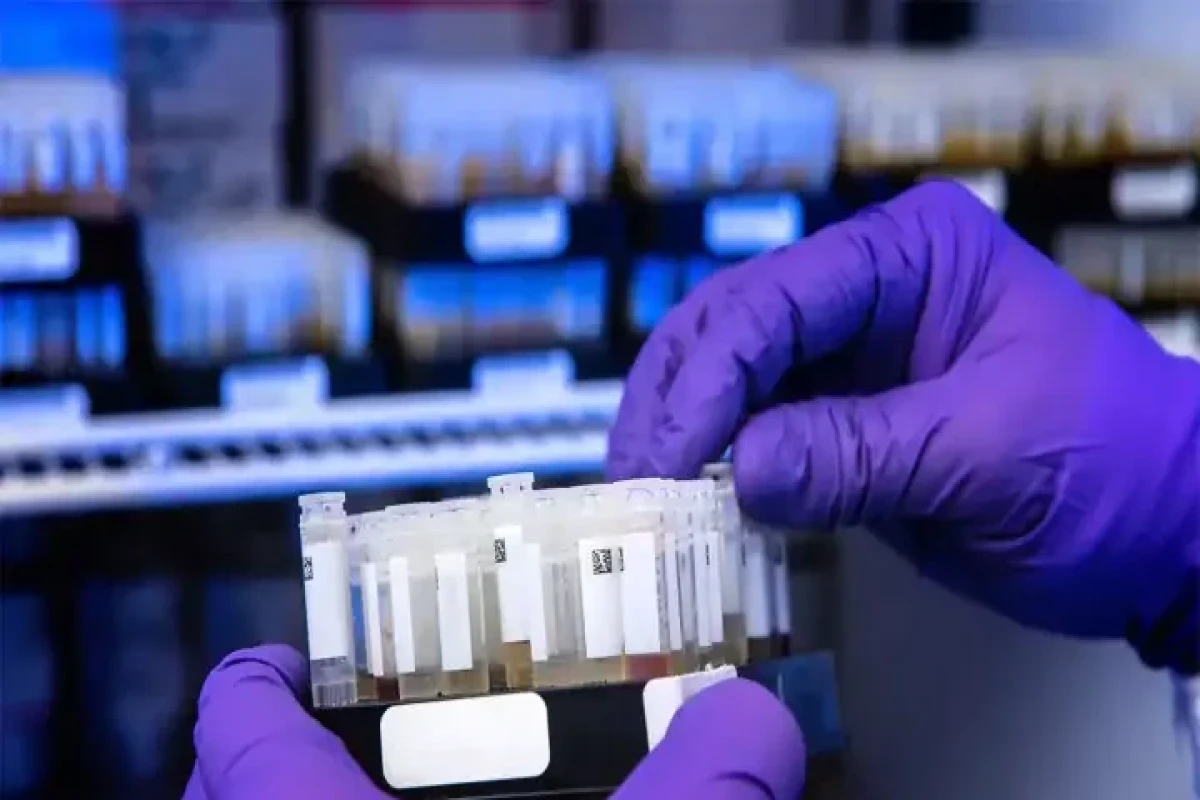
В штате Вашингтон подтвержден редкий случай заражения вирусом H5N5